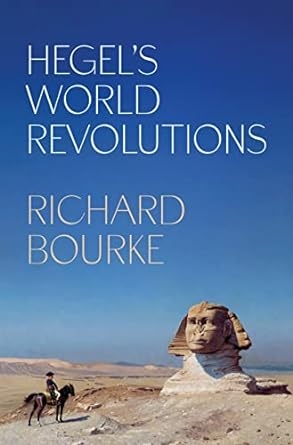Семена будущего
Рецензия на книгу Ричарда Берка «Мировые революции Гегеля» (Hegel’s World Revolutions by Richard Bourke. Princeton, 2023, 321 pp.).
Оксфордский философ Гилберт Райл утверждал, что однажды отговорил студента от самоубийства, указав ему на то, что логика выражения «все бессмысленно» сильно отличается от логики выражения, например, «все чушь». Для тех, кто философствует в подобном стиле, Гегель никогда не станет частью их племени, но будет оставаться мракобесом, полумистическим системостроителем, который в итоге повиновался автократическому прусскому государству, и чья мысль заложила основы тоталитаризма XX века. Философия состоит в том, чтобы говорить об определенных вещах определенным образом; Гегель иногда рассуждает о правильных вещах (свобода, добродетель, рациональность), но делает это не совсем правильным образом. Он пишет как о несуществующих предметах, таких как единство тождества и нетождества, так и о тех, которые существуют (любовь, бедность, самосовершенствование). Но для таких, как Райл, он вообще не считается философом.
Ричард Берк - потрясающе талантливый политический историк, чья книга «Империя и революция» (2015) стала монументальным исследованием творчества его тезки и соотечественника Эдмунда Берка. Он много и глубоко читал Гегеля - для некоторых из нас это не самый увлекательный способ скоротать время - и обладает потрясающими знаниями в области современной европейской политической мысли. Сейчас Берк читает курс истории политической мысли в Кембридже, но начинал как литературовед. Его ранняя работа по Уордсворту «Wordsworth, the Intellectual and Cultural Critique» (1993) уже демонстрирует его интерес к социальным и политическим наукам.
Как отмечает Берк в новой книге, репутация Гегеля начала падать после окончания Второй мировой войны. Он стал объектом грубой антикоммунистической критики со стороны Карла Поппера и высокомерного презрения со стороны Исайи Берлина. Тем не менее, позднее возродился интерес к его метафизике и теории познания, но не произошло сопоставимого переоткрытия его политической мысли. Начиная с 1960-х годов, Фридрих Ницше, другой мыслитель, чьи компетенции вызывают сомнения у таких философов, как Райл, сменил Гегеля в качестве главного философа Европы. Именно дух Ницше, очищенный от его прогорклой политики, лежит в основе мысли таких постструктуралистов, как Жак Деррида и Мишель Фуко, а также влияет на весь постмодернистский ландшафт. Многие постмодернисты являются ницшеанцами, сами того не осознавая. В Ницше гегелевская мысль встречает своего заклятого врага: истина теперь - удобная фикция, единство субъекта - иллюзия, власть, а не разум управляет человеческими делами, история - череда ужасных происшествий, а мир - сцена текучести и изменчивости, не имеющая внутреннего смысла или ценности. Всему этому нужно радоваться, а не переживать по этому поводу, и имя этому празднику, как ни странно, - трагедия.
На массовом уровне, среди хиппи и студентов-диссидентов, все это способствовало формированию культуры, в которой свобода была безграничной и, следовательно, пустой, иерархия - подозрительной, а сама идея института - репрессивной. Политическая цель заключалась в том, чтобы одним махом перепрыгнуть из деградирующего настоящего в утопическое будущее. Раскапывая политическую мысль Гегеля, Беркни разу не заявлял о намерении поставить под сомнение этот никудышный радикализм, не в последнюю очередь в том виде, в каком он сохранился в наше время; и если перечитывание Гегеля является эффективным способом сделать это, то только потому, что Берк считает, что его политическая мысль исследует цикл революций, результаты которых оказались в ужасном противоречии с их первоначальными намерениями.
Первым из этих неудачных переворотов стало христианство. По мнению Гегеля, это дерзкое новое вероучение вытеснило язычество и революционизировало принципы иудаизма, но его евангелие бескорыстия не смогло победить мир власти и собственности. В результате оно погрузилось в историю жестокостей - от крестовых походов до работорговли - и в то же время ушло в потусторонний мир. Реформация освободила христианство от средневековых суеверий, но за его культ субъективности дался ценой культа вины и покаяния. Дальнейший прогресс культуры, связанный сэпохой Просвещения, был слишком далек от материальной реальности, чтобы заслужить искреннее одобрение Гегеля. Философия, по его мнению, ничто, если она не принадлежит целиком миру.
Тем не менее, в центре этого интеллектуального переворота была одна фигура, которая в глазах Гегеля была полнокровным революционером. Это слово кажется странным в отношении уединенного, респектабельного Иммануила Канта, человека, чьи привычки были настолько пунктуальны, что его сограждане, как говорят, сверяли по ним часы, и ненавидевшего политические революции. Для мачо Ницше Кант - дряхлый прожигатель жизни с уксусом в жилах вместо крови; но были и другие, кто видел, что его работа потрясла мир идей до основания. Кант тоже так считал. На самом деле он сам был ярым политическим революционером, хотя и не знал об этом. Бурные события во Франции были, по его мнению, самым лучшим эпизодом в истории цивилизации со времен пришествия Христа; но он рассматривал эти волнения как конституционное дело, а не как насильственное свержение государства, и поэтому мог сохранять свою враждебность к революциям, одновременно поддерживая одну эту. Для Гегеля моральная философия Канта и Французская революция - продукты одних и тех же исторических сил. Как этот катаклизм возродил чувство веры в человеческую мощь, так и Кант совершил прорыв, рассматривая человеческий разум как активно конструирующий реальность. Однако в конечном итоге Гегель нашел в призыве Канта к чистоте сердца нечто вроде того же отступления от истории, что и в христианстве. Кант тоже не смог достичь того брачного союза мысли и реальности, который так ценил Гегель.
Берк весьма эрудированно излагает эту историю неудавшихся революций в доходчивой форме, если не со стилистическим изяществом. Проще ясно писать о Гегеле, если имеешь дело с его политической мыслью, а не, скажем, с его теорией познания, и исключение этих более проблематичных тем также облегчает искреннюю похвалу его работе, что и делает Берк. Проблема в том, что книга жертвует аргументацией в пользу нарратива и недостаточно бдительно следит за общим ходом дел. В ней не прослеживается, что недовольство Гегеля революциями, которые он рассматривает, почти в каждом случае сводится к их потусторонности или оторванности от реальности, говорим ли мы об Иисусе или Робеспьере, древних афинских философах или современных кантианцах.
В этом заключается суть гегелевского представления о мире. Для него действительное содержит в себе возможное, так что в него можно погрузиться, не боясь потерять из виду искомую альтернативу. К уже существующему не нужно прикреплять произвольное утопическое измерение, поскольку существующее уже таит в себе семена того, что должно быть. Не нужно метаться между повседневным миром и политическими фантазиями. Единственное жизнеспособное будущее - это то, которое уходит корнями в настоящее, а не то, которое привносится в него мечтами или диктатом. Постичь суть вещи можно, только поняв, чем она является в процессе становления. Стол - это всего лишь мгновенный снимок процесса, который начался с саженца и закончится кучкой пыли.
Есть, конечно, одно великое изменение порядка вещей, которое угрожающе нависло над эпохой Гегеля. Берк утверждает, что сам он отнюдь не был безусловным энтузиастом Французской революции, как утверждают некоторые специалисты. Хотя революционное брожение во Франции привлекало его внимание, он не одобрял большую часть того, что там происходило. Мечты и диктат вытеснили трезвую реальность, так как якобинцы преследовали фантазию об абсолютной свободе, которая отрывала их от мира и приводила к саморазрушению. Такая свобода пуста, поскольку отмена всего из страха, что это может ограничить свободу, оставляет после себя вакуум, в котором мы не можем найти ни одной причины, по которой мы должны действовать одним способом, а не другим. Абсолютная воля неизбежно будет произволом, поскольку она перестанет быть абсолютной, если будет соблюдать законы и моральные императивы. Само существование чего-то иного, чем она сама, представляет для нее смертельную угрозу, и в итоге она сокрушает все, что движется. Гегель рассматривает революцию как бегство в пустоту, поэтому она терпит крах точно так же, как и другие изучаемые им новации.
Берк считает свободу центральной проблемой Гегеля, но это, безусловно, нуждается в уточнении. Более насущным является конфликт между индивидуальной свободой и укорененностью в некоем более корпоративном существовании - конфликт, который, как считал Гегель, он разрешил. Самоопределение не может происходить в пустоте. Кроме того, от мыслителей либеральной традиции его отличает вера в то, что свобода должна быть взаимной - моя свобода может процветать только в свободе других и через нее. В руках Карла Маркса все это превратится в коммунизм, поскольку развитие каждого становится условием развития всех. Однако примечательно в этой книге сравнительное отсутствие Маркса. Из тех весьма немногих комментариев, его касающихся, по крайней мере один весьма сомнителен. Нам говорят, что он и Кьеркегор «невразумительны в своих собственных терминах». Если это означает, что ни у одного из этих мыслителей нет ничего, кроме их реакции на Гегеля, то это крайне ошибочное суждение. Насколько это верно в отношении «Капитала» или «Болезни к смерти»? Некоторые упоминания о Марксе в указателе имен на деле оказываются рассуждениями о Георге Лукаче или Франкфуртской школе. Рассказ о наследии Гегеля сосредоточен на XX веке, случившемся куда позже после работ его самого знаменитого наследника.
Работа Берка столь несерьезно относится к марксизму, потому что иначе есть риск разрушить оппозицию, которую Берк устанавливает между уважением к реальному, с одной стороны, и уходом в революционные фантазии - с другой. Маркс придерживался практического и материального, презирал утопизм и выступал против всех форм идеализма, но при этом был революционером. Как и Гегель, он практикует форму имманентной критики - термин, который в этой книге почти не используется. Вместо того чтобы привносить некий абстрактный идеал в настоящее, такая критика встраивается в мир как он есть, но ищет в нем определенные конфликты и противоречия - конфликты, которые, будучи раскрытыми, могут привести к преображенному будущему. В этом смысле она не привязана к тому, что есть, как консерваторы, и не устремлена в потусторонний мир, как дивные анархисты. Единственным противоядием от недовольства, замечает Берк, являются реально существующие ценности, и именно здесь Гегель имеет преимущество перед праздными мечтателями и торговцами абстрактными принципами. Но то же самое можно сказать и о Марксе, который относится с уважением к наличным либеральным ценностям и не держит в рукаве веер альтернативных моральных заповедей. Он просто спрашивает, почему эти ценности не могут быть адекватным образом реализованы на практике и как это можно сделать.
Книга Берка представляет собой одновременно анализ представлений Гегеля о революции и скрытую критику самой идеи революции. Политика, отмечает Берк, должна представлять собой нечто большее, чем совокупность «идеальных механизмов, абстрагированных от практики» — утверждение, с которым трудно не согласиться. Автор также предполагает, что внимание к практическим вопросам ограничивает идеализм, но что, если эти вопросы содержат в себе немыслимые возможности? Кажется, Берк хочет выступить с политической критикой левых, но как тогда понять, что свержение апартеида в ЮАР затерялось в фанатическом рвении или самопоглощающей абстракции? То, что Грета Тунберг оторвана от реальности, — это мнение Дональда Трампа, а не здравомыслящего наблюдателя. Был ли террор неизбежной судьбой всех радикальных политических изменений? Именно в этом контексте когда-то появилось слово «терроризм», но тогда террор сеяло государство, а не банда повстанцев. Сегодня терроризм – это не столько часть революции, сколько бунт граждан крайне угнетенных государств против тех, кого они считают ответственными за их тяжелое положение. Это отчаянная подмена подлинных политических изменений, а не их неизбежная черта.
Те, кто призывает нас уважать различия, не должны нас убеждать в том, что когда дело доходит до движущих сил перемен, нет особого выбора между якобинцами и воинствующими студентами 1960-х годов или гильотиной и преподаванием. Берк с одобрением цитирует статью историка Дж.Г.А. Покок о студенческих протестах 1960-х годов, в которых он предупреждал, что стремление к абсолютной свободе приводит к террору. Трудно представить, что требования студентов об обновлении учебных программ привели бы к тому, что их головы оказались в корзинах.
Во всяком случае, современный мир не трещит по швам из-за рьяных революционеров, которых нужно раскритиковать с оглядкой на Гегеля. И Гегеля, возможно, не так легко использовать в этих целях, как можно было бы подумать. Берк признает, что, несмотря на то, что Гегель ценил современное конституционное государство выше всех других, он остро осознавал недостатки общества, на страже которого стояло это государство. Например, существовала борьба между богатыми и бедными, которую, по словам Берка, «следовало смягчить и направить к общему благу». Это мягкое высказывание преуменьшает опасения Гегеля по поводу раннего индустриального капитализма, некоторые из которых поразительно предвосхищают опасения Маркса. Наряду с чрезмерным богатством, утверждает он, происходит погружение масс в духовные и материальные лишения, низведение их до «скотского состояния» и подчинение чуждой силе, слепой, как судьба. Возмущенные этой несправедливостью, простые люди становятся «чудовищными примитивными варварами, ведущими себя иррационально», постоянно угрожая восстать. Гегель весьма боялся народных масс, но это не лучшая причина не быть радикалом. Если Маркс рассчитывает на то, что государство исправит тяжелое положение народа, то он гораздо более реалистично рассматривает государство как силу, которая способна на подобное. Нелегко понять, как то, что Берк называет либеральными ценностями, способно гуманизировать этот тип капитализма.
Этимологически, революции, если угодно, возвращают все на свои места. Это не кредо консерваторов, которым они только ухудшают положение. Революция, которую Гегель считает полностью успешной, проходит полный круг. «Мировой дух» достигает своей цели, когда он поворачивается обратно к себе, осознавая свою собственную эволюцию и то, что все в его устойчивом движении должно было происходить именно так, как оно происходило. Это движение должно обрести человеческий разум, в котором подобное только и может произойти, и в своей непостижимой мудрости оно выбрало сознание самого Г.В.Ф. Гегеля как зеркало, в котором можно созерцать самого себя, подобно тому, как Всемогущий избрал молодого еврея в глухом уголке Палестины, вероятно, сына каменщика, примерно с той же целью.
Книга Берка «Мировые революции Гегеля» демонстрирует знакомство с идеями своего главного героя, которому, возможно, нет равных в современной Британии. Столь же впечатляет и гора второисточников. Но ингредиент, которого здесь не хватает, — это критика. На почти трёхстах страницах едва ли можно найти хоть одно негативное суждение, которое могло бы запятнать доброе имя мастера. Это предполагает, что здесь наблюдается нечто большее, чем анатомия политической мысли Гегеля. За этой версией скрывается политическая вражда, которая ни разу по-настоящему не произносит своего имени. Было бы хорошо, если бы это стало ясно.