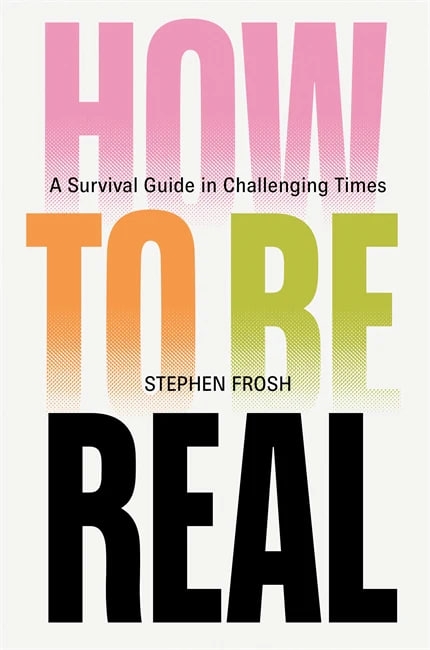Призраки и предки
Если призраки появляются, то обычно потому, что пытаются что-то сообщить. Иначе какой смысл в их возвращении? Если мы прислушиваемся к этим призракам, взволнованным или просто печальным, то что мы услышим?.
В художественной литературе эти послания иногда весьма конкретны – например, где произошло убийство, где и к кому обратиться за помощью, какое дело осталось незакрытым и теперь требует, чтобы его закончили. Призрак отца Гамлета – классический шекспировский пример, указывающий Гамлету и нам, зрителям, в сторону того, что «прогнило в Датском королевстве», и питающий, пожалуй, параноидальную жажду мести Гамлета. Иногда призраки приходят, чтобы предостеречь живых, они говорят, кого следует остерегаться и каких ситуаций следует избегать. Популярный ромком «Призрак» (1990) обыгрывает этот сюжет, где главную героиню защищает её покойный муж. Но чтобы верить в точность этих посланий, нужно верить и в оккультизм, который слишком далек от разума, чтобы быть достаточно убедительным. Если «Призрак» — всего лишь романтическая комедия, то «Гамлет» — одна из величайших пьес в том числе из-за неоднозначного статуса призрака: реален ли он или является проекцией сознания Гамлета? Если же рассматривать вопрос шире, то стоит всерьёз относиться к ощущению того, что что-то нужно исправить, прежде чем призрак обретёт покой.
В многочисленных новых работах на эту тему, которые в целом упакованы в лейбл хонтологии, говорится, что проблемы, которые необходимо исправить, носят социальный характер. Источниками проблем, преследующих людей, являются неразрешенные и часто непризнанные противоречия в социальном мире. В частности, речь идет о ситуации, когда обещание, данное обществом своим членам – защищать их и обеспечивать уровень жизни – было нарушено. Например, много и весьма убедительно было написано о наследии рабства в США. В одном из самых значительных романов XX века, «Возлюбленная» (1987) Тони Моррисон, это наследие представлено в качестве истории призрака, рассказывающего как о непосредственных последствиях рабства, так и об их влиянии на современное американское общество. Как свобода, которую люди получили в результате отмены рабства, спрашивает Моррисон в своей книге, скрыла факт нескончаемого угнетения и дискриминации, что привело только к укреплению расизма и его колоссальному влиянию на протяжении более чем столетия? Призрак, который постоянно возвращается в романе, — это призрак ребенка, убитого матерью, чтобы защитить ее от повторного попадания в рабств (реальный исторический случай); но это также, несомненно, призрак самого рабства, по-прежнему неотступно преследующий американскую политику.
«Возлюбленная», очевидно, является романом, в котором преследование призраком можно представить как вполне реальное событие. Мы вольны воспринимать это буквально, символически или как и то, и другое. Однако, если мы подумаем об этом с психосоциальной точки зрения, смешивая психологические и социологические аспекты, мы, возможно, увидим, как сюжет романа проливает свет на то, как невысказанная и подавляемая общественная боль может продолжать давать о себе знать и навязывать себя , пока их не начнут признавать. Например, движение Black Lives Matter можно отчасти рассматривать как взрывное сопротивление расизму, которое, безусловно, не возникло из ниоткуда — движение за гражданские права и Black Power 1960-х и 1970-х годов — лишь два примера его предшественников, — но которое представляет собой возрождение призрака, который преследовал американское общество (и, конечно же, другие общества тоже) именно потому, что социальная несправедливость, с которой борется движение, никуда не делось. Другие постколониальные требования репаративного правосудия того или иного рода, иногда материального и обычно включающего формальные извинения и признание факта длительной эксплуатации и материальных выгод, получаемых в результате исторических преступлений, также можно рассматривать в этом ключе, хотя они не всегда выглядят столь призрачно. И я уже говорил о том, насколько полон призраков мир после холокоста, как потомкам второго поколения как выживших, так и преступников зачастую приходится вслепую разбираться в переживаниях, которые, как как им прекрасно известно, повлияли на них, но которые им не «позволили» по-настоящему поставить все на свои места.
Этот пример потомков преступников особенно показателен ввиду различных уровней, на которых он проявляется. На социальном и национальном уровне мы знаем, что отрицание ответственности за холокост в послевоенной Германией и сокрытие факта восстановления нацистских функционеров в должностях в юридической, политической, культурной, образовательной и медицинской сферах – то есть, быстрота, с которой был свёрнут небрежный процесс «денацификации», – начали осознаваться только в 1970-х годах. Даже тогда внутри Германии признание нацистского террора и ответственности всего общества за его развязывание вызывало споры. Знаменитое «варшавское коленопреклонение» канцлера Вилли Брандта – его жест в 1970 году, когда он преклонил колено у мемориала восстанию в Варшавском гетто, – было крайне непопулярно среди значительной части западногерманской общественности, которая, не обращая внимания на кровавые события, которые она признавала, считала, что подобный жест только порочит репутацию её страны. Однако если для поколения, пережившего Вторую мировую войну, было характерно безудержное отрицание, то второе, а возможно, и особенно третье поколение послевоенных немцев предоставило многочисленные, а порой и жестокие свидетельства того, что их преследовала невысказанная история их предков. Потомки нацистов были вынуждены задавать вопросы о молчании, в которое было окутано недавнее прошлое, и зачастую в конечном итоге они бросали вызов своим предкам. Последствия всего этого сохраняются и сегодня. С одной стороны, Германия, как и многие европейские страны, страдает от крайне правых националистов, всё ещё находящихся в плену воображаемого величия прошлого; с другой стороны, Германия сделала больше, чем многие страны – пожалуй, прежде всего Австрия, которая является наиболее близким сравнением, – чтобы признать свою вину посредством увековечивания памяти и (в конечном итоге) материальных репараций. Оба ответа носят на себе пятно, которое никогда не исчезнет и которое переходит из поколения в поколение, так что даже люди, не имеющие никакой очевидной связи с этим прошлым, должны найти способ реагировать на него. Безоговорочная приверженность Германии поддержке Израиля и трудности, которые это создает, когда возникает необходимость в критике действий Израиля, являются еще одним примером того, какое влияние прошлое может оказывать на современную политику.
Призраки говорят о несправедливости, которую творили и результаты которой не были исправлены обществом, которое отказывается взглянуть в лицо своему прошлому, и в этом отказе не признает нынешнее беззаконие. Как показывает пример послевоенной Германии, это не просто интеллектуальная встреча с призраками прошлого. Для детей и внуков нацистской Германии часто было глубоко личным, эмоциональным опытом столкнуться с молчанием своих родителей или бабушек и дедушек и осознать, что они, возможно, натворили, будь то активными нацистами или члены того, что стало называться «обществом наблюдателей». Все это заслужило серьезного изучения в ряде научных работ, таких как «Общество наблюдателей» (2023) Мэри Фулбрук, но также служило предметом исследования писателей, размышляющих о собственном открытии историй своих немецких предков и последующей борьбе за то, чтобы примириться с ними. Например, Дженнифер Тиге, чернокожая немка, говорящая на иврите в свои тридцать с небольшим случайно узнала, что ее дед был ни кем иным как Амоном Гетом, комендантом концлагеря Плашув (образ которого так ярко изобразил Стивен Спилберг в «Списке Шиндлера» (1993)), и что ее любимая бабушка была его любовницей. Тиге была повергнута этим открытием в глубокий психологический шок. Психоаналитик Роджер Фри начал свое историческое исследование отрицания в послевоенной Германии после того, как раскрыл связи своего деда с нацистами. Появилось также несколько документальных фильмов о напряжении между отрицанием и признанием действий нацистских родителей, в частности фильм Филиппа Зандса «Мое нацистское наследие» (2012), в котором исследовались различные реакции сыновей Ганса Франка, который в качестве генерал-губернатора Польши нес непосредственную ответственность за уничтожение евреев, и Отто фон Вехтера, губернатора Галиции и заместителя Франка. Сын Франка, Никлас, популярный немецкий журналист, известен своим осуждением отца, что привлекло широкое общественное внимание после публикации в 1987 году книги «Der Vater: Eine Abrechnung» («Отец: мое сведение счётов», переведённой на английский в 1991 году под названием «В тени Рейха»). Сын фон Вехтера, Хорст, напротив, показан в фильме увиливающим: он недоволен (это очевидно), он знает, что произошло, но его собственный отец, по его мнению, был в основном хорошим человеком, у которого просто не было реального выбора. Он утверждает, что мы должны понять, насколько нелегко было сопротивление нацистским приказам, тем более для нациста. Несмотря на значительное давление со стороны Никласа Франка и самого Филиппа Зандса, Хорст фон Вехтер сохраняет эту позицию на протяжении всего фильма. В частности показано, как он с удовольствием наблюдает, как его отцом открыто восхищаются ряд украинских неонацистов.
Для людей на «другой» стороне, переживших зверства, начиная с холокоста и южноафриканского апартеида и заканчивая геноцидом в самых разных странах мира, призрачные видения имеют иную природу. Тем не менее, некоторые их структурные элементы являются общими. Что-то не было сделано для того, чтобы возместить ущерб, возложить ответственность на преступников и добиться признания того, через что люди прошли. В случае выживших борьба за то, чтобы их услышали, во многих случаях была невероятно сложной. Их ощущение преследования связано с полноценным замалчиванием, которое последовало за опытом молчания: поговорив с глухими, выжившие часто уходили в себя. По этой причине, а также в качестве защитной стратегии, они часто не изливали душу в семье, оставляя пустоту, про которую их дети знали, но не знали, как ее заполнить. В качестве альтернативы некоторые выжившие проецировали на следующее поколение требование к себе исправить причинённый ущерб, возможно, чтобы искупить свою собственную травму, а порой даже «назло Гитлеру», заявить о том, что выжили. Чрезмерная забота о детях, чрезмерная опека, тревожность, ожидание высоких достижений: эти и подобные требования, как осознанно, так и бессознательно передаваемые, отмечают многие представители второго поколения, пережившего холокост. Ева Хоффман пишет, основываясь на собственном опыте: «Родители так надеялись на спасение. Они так много вложили в этих детей и вселили в них столько тоски. Заменить – воскресить – погибших; возместить утрату; искупить унижения, причинённые обидчиками; дать им компенсацию в виде безусловной любви и защиты от смертельной опасности».
Для последующих поколений, порой непонимающих поведение родителей, как и тем, что они подозревают, но не знают, преследование со стороны призраков часто бывает весьма серьезным. Эти призраки говорят: «Исправь мир для нас», – требование, которое может оказаться невыполнимым, особенно когда у адресата тоде хватает простых человеческих тревог и сомнений, которые теперь усугубляются теми, что достались в наследство от родителей.
Подобных призраков, навязчивых реликвий бед прошлого, необходимо встречать такими, какие они есть: живыми руинами, которые напоминают о существовании несправедливости до тех пор, пока с нею что-то не будет сделано. В этом смысле их можно рассматривать в контексте понятий «меланхолия» и «травма». В обоих этих состояниях описывается набор переживаний, которые остаются «непереработанными», недоступными для осмысления, интегрированного с эмоциями и необходимого для преодоления последствий травматических событий. При травме главная сложность заключается в поиске способов преобразовать текущее переживание подавленности событием в иное восприятие этого события как прошлого, несомненно, вызывающего тягостные воспоминания, но всё же не более чем воспоминания. Сложная задача, возложенная на последующих свидетелей – найти способ вслушаться в рассказы о травме, осознавая их реальность и интенсивность, но при этом оставаясь рядом со страдающим, – основана на идее о том, что такое свидетельство может стать путём к тому, чтобы позволить травме быть увиденной или символизированной, чтобы обрести некий смысл. Таким образом, определенное «трудное знание» может заменить как для говорящего, так и для слушателя то, что ранее казалось невыносимым.
С призраками тоже заметно ощущение неслышимого голоса, чего-то говорящего и пытающегося найти слушателя, чтобы что-то могло измениться. Есть событие, возможно, непрерывная серия событий; о нем известно, но также и неизвестно, потому что это знание болезненно либо само по себе, либо из-за того, как оно вовлекает нас или других в состояние вины. Призрачное напоминание, никогда не в полном фокусе и часто на грани воспринимаемого, взывает к преследуемому человеку или обществу, требуя его выслушать. Если этого слушателя удается найти, то, как и в случае с травмой и меланхолией, возникает возможность некоторого уменьшения страданий, своего рода возвращения в прошлое, которое затем меняет настоящее. В мифах и сказаниях призраки олицетворяют крики заблудших душ, которые часто страдали от насилия. С психологической точки зрения это довольно точное утверждение: нас преследуют незавершенные дела, связанные с исправлением фактов несправедливости; и поиск способов реагировать на это может означать не уничтожение призраков, поскольку это сотрет и историю, а поиск подобающего для них места в порядке существующих вещей.