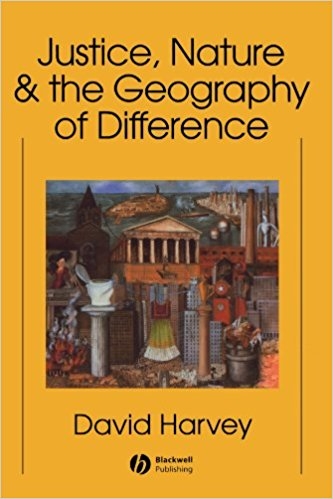Пространство без границ
Рецензия на книгу Дэвида Харви "Справедливость, природа и география различий" (Justice, Nature and the Geography of Difference by David Harvey. Blackwell, 1996)
Время, начиная с романтиков и вплоть до модерна, выступало плодотворным понятием, тогда как пространство же – стерилизованным. Пространство – это нечто статичное, пустота, через которую нужно наводить мосты; время – или, возможно, история – это нечто текучее, разрастающееся, незавершенное. Для модернистского писателя вроде Бертольда Брехта изменения хороши сами по себе, тогда как для Сэмюэла Джонсона изменения – это однозначное зло. Все плохое состоит из законченного; все хорошее – динамический, развивающийся процесс.
Эта романтическая банальность уже не раз ставилась под вопрос. Если Паскаль еще мог видеть волнующее величие пространства, то уже Маркс замечает в капитализме клаустрофобную систему, поскольку она никогда не может остановиться в развитии. Но пока модернистские художники пытались остановить время и разрушить его упорядоченность, их запертая в городской тесноте аудитория начала ценить пространство. Пространство стало чем-то, что нужно предоставить друг другу, оно перестало быть плоским, его искривляет разум или взаимное притяжение планет. В постэйнштейновскую эпоху оно начало приобретать некоторые наиболее привлекательные свойства времени: подвижное, гетерогенное, многослойное - оно больше не абсолютная пустота, а динамическая сила, изменяющаяся, словно живой организм. Превратившись в "окружающую среду" пространство стало тем, что нужно беречь и уважать; как посредник, конфигурации которого задаются взаимной игрой наших тел, оно становится эротичным. "Состояние" уступило место куда более привлекательной "структуре", и паскалево ощущение величия вернулось сладким и одновременно пугающим чувством того, что там, "по ту сторону", что-то есть. Пространство стало беременным разнообразными возможностями, а интеллектуальная жизнь – игрой дискурсивных территорий и зон исследования. Быть расположенным в пространстве больше не значит быть выхолощенным.
Короче, мы все уже по горло сыты историцизмом. Романтическая мечта о бесконечном развертывании во времени наших творческих способностей рождалась как протест против безжалостного и авторитарного бога, но завершилась лишь отражением его всемогущества в форме гуманизма. Было что-то неприятно напоминающее саморекламу в его щедрости, в поспешном стремлении утвердить человеческую уникальность, игнорирующей все, что роднит нас со слизняками. Но истории пришлось преклонить голову перед биологией и географией; нам напомнили о нашей тварной природе, швырнули обратно в пределы материального, и пространство - не в последнюю очередь из-за того, что на нас всех его так мало - стало одним из средств для смирения.
Пространство в наши дни не только идет вровень со временем, но и опережает его. В форме нетеоретизируемой уникальности места для некоторых постмодернистских теорий оно стало чем-то вроде джокера в понятийной колоде, тем, что не поддается абстракции и подрывает всякий метанарратив. Теперь уже время – уныло однородное, вечное проклятое однообразие, фаллическая траектория, противостоящая наполненной утробе пространственности. И по мере того, как пространство занималось борьбой за влияние со временем, природа заявляла свои права на историю человечества, которая теперь с точки зрения наиболее радикальных экологов предстает скорее раковой опухолью на теле мира. Отсюда и парадокс эпохи постмодерна: настаивая, что все сводится к культуре, она обращается от культуры к природе. И экология, и культурный релятивизм – способы сместить с трона его величество человека универсального.
Ныне, когда традиционные границы между гуманитарными дисциплинами стремительно размываются, география разделяет с литературоведением одно замечательное свойство – обе никогда толком не представляли, в чем, собственно, состоит их предмет. Как литературоведение занимается чем угодно от верлибров до влюбленных, география распространяется на все от песчаных дюн до брачных ритуалов. Дэвид Харви, дуайен радикальных географов, пишет о материальных ограничениях, используя язык, ниспровергающий все ограничения, перескакивая от Спинозы к ловле гребешка, от архитектуры Балтимора к обращению капитала. "Справедливость, природа и география различий", где якобы ставится под вопрос материалистическая, рациональная концепция пространства – книга неровная, наспех слепленная и почти до смешного амбициозная. В одном только названии она умудряется скрестить модерн и постмодерн, этику и этнику, натуру и культуру, универсальность и уникальность. Точно так же, как вымышленный Дэвидом Лодджем литературный критик Моррис Запп надеялся завести критику в тупик, написав о каждом мыслимом авторе используя все вообразимые методы, так и Харви касается ни много ни мало Жизни, Вселенной и Всего остального, расширяя и без того неясные границы своей дисциплины до поистине космических масштабов.
В эпоху фетишизации фрагмента, диалектический подход Харви к целостным системам и их внутренними противоречиям вызывающе немоден. В методологическом "Введении" о природе диалектики он пишет достаточно ценного о приоритете отношений над вещами, взаимном конституировании части и целого, способе, который заставляет их одновременно и сопротивляться, и тайно сговариваться друг с другом. Но отрицание подлинных различий между духом и материей, фактом и ценностью, мыслью и действием, как получается у Харви, больше походит на монизм, чем на диалектику. Пусть он хорошо понимает бессмысленность заявок на то, что все связано со всем (например, Пентагон и моя левая подмышка) его расширению диалектики от истории до природы угрожает в точности такая опасность. Можно считать, что образ Отелло содержит в себе внутреннее противоречие, но как такое можно утверждать о репчатом луке? Может быть разумнее полагать, что противоречия применимы к смысловой, а не материальной реальности, и могут быть использованы в применении к чижикам и пыжикам только в некотором воображаемо-метафорическом значении? Несомненно: и история, и природа являются частью единого процесса; но делать слишком большой акцент на этом означает, подобно позитивистам или идеалистам, риск утратить различия между ними. Река не течет так, как течет сонет, а время летит не так, как летит гусь.
Будучи радикальным мыслителем, Харви полагает, что изменение и нестабильность – это норма; но то, что это не всегда хорошо политически является одной из первостепенных причин для того, чтобы быть радикалом. С социалистической точки зрения история в той же степени содержала занудную непрерывность, что и головокружительные перемены. И при этом столь же неубедительно предполагать вслед за Харви, что устойчивые свойства нашего мира – всего лишь "овеществления свободно протекающих процессов". Вот он, еще один осколок старомодного романтического витализма. Предметы суть не просто пробки в поступательном движении природы. И вправду, многое становится очевидным, если показать, что капитал – это процесс, а не вещь, но что будет разоблачено, если показать, что и банджо тоже процесс? Сводить людей к совокупности различных процессов может быть вполне полезным делом, если вы ранее думали о них как об одиночных атомах, но бессмысленным занятием, если вы настаиваете на их моральной автономии. Идентичности – это отнюдь не просто платоновские иллюзии, порожденные реальностью процесса.
Большую часть довольно суховатого "Введения", где Харви удивительным образом обнаруживает диалектику у абсолютного антигелельянца Фуко, можно было бы с пользой для дела сократить. Вторая часть книги обращается к экологической тематике. Она начинается с рассказа о том, как несколько лет назад группа чернокожих из Балтимора заявила о том, что их главной экологической проблемой является ни кто иной как президент Никсон. Эта история важна, кроме прочего, для того, чтобы проиллюстрировать пустоту термина "окружающая среда", впрочем, и сам Харви далек от образа трепетного защитника природы. Напомнив, что первые пришедшие к власти радикальные защитники окружающей среды были ни кто иные как нацисты, он утверждает, что почти всегда в экологической политике присутствует авторитарная сторона, и, не церемонясь, утверждает, что "экосистема" Нью-Йорка отстоит от настоящей природы не дальше чем Мортон-ин-Марш. Что коренные народы отнюдь не всегда ведут себя как святые с экологической точки зрения, и что разнообразные сценарии экологического апокалипсиса игнорируют факт того, что сегодня условия жизни людей гораздо лучше, чем когда бы то ни было. "По факту, мы не в состоянии разрушить планету Земля", - пишет Харви. Одни могут обвинить утверждающих подобное в безразличном реализме, тогда как другие - в скандальном самодовольстве. В отличие от отмороженных защитников окружающей среды, Харви также справедливо полагает, что контроль над природой и власть над ней - далеко не синонимы.
Харви не видит проблем в отношениях общества с природой: само различие между ними является ложным. Денежные и товарные потоки являются столь же значимыми для окружающей среды, как киты и водопады, а на дебатах о сохранении окружающей среды на самом деле обсуждаются аргументы в пользу сохранения определенного общественного строя. Пространство и время – продукты общественного производства, и различные общества производят качественно различные представления о них. Представления о пространстве и времени в Новое время были навязаны имперской политикой и колониальным господством. Современный капитализм практикой принятия мгновенных решений и работой над сокращением расстояний значительно уплотнил и время, и пространство. Чем в большей степени глобализирующееся пространство становится однородным, тем большую роль начинают играть тонкие различия между разными территориями, поскольку международный капитал гораздо более приспособлен такие различия искать и эксплуатировать. И чем больше "где-нибудь" становится "где угодно", тем больше этих "где-нибудь" нуждается в привлечении инвестиций, демонстрируя, что они не иначе как "везде". Таким образом неустанное выравнивание пространства находит свое дополнение во всяческих крикливых культах различий, начиная с национализма и постструктурализма и заканчивая экзотическими курортами, невероятно гостеприимными центрами туризма и распространением весьма специфических вкусов.
Однако территория, с диалектической точки зрения Харви, может как сопротивляться капиталистическому накоплению, так и найти формы соучастия в нем. Территория – это пространство, но она может обращаться своей противоположностью: в качестве места, куда хочется вернуться, мемориально-значимого места, она представляет из себя именно то, что так трудно бывает втиснуть в товарную форму. Проблема состоит в том, как высвободить смысл места из мистифицирующего хайдеггерианского бормотания об аутентичности "жилища", точно так же как нуждается в спасении подлинное значение "сообщества" от тех американских коммунитаристов, для которых оно означает избиение своих соседей, если, не дай бог, они поймали их курящими в неположенном месте. Территорию можно рассматривать как "закрытую зону социального контроля", либо как "устойчивое единство", которое на самом деле всегда является социальным процессом. Наиболее убедительными в книге Харви выглядят главы, посвященные пространству и времени как социальным артефактам, в частности способам, которыми контролируемое женщинами пространство домашнего быта разрушается внедрением приватизированных мужчинами пространственных практик, известных как образование - признак высокого интеллекта, пребывающего по ту сторону распределенных между женщиной и мужчиной домашних обязанностей.
В этих утверждениях для нас, наследников Просвещения, есть нечто вызывающе контринтуитивное, коли мы практически не в состоянии рассматривать пространство и время иначе как вместилище, в котором все и происходит, не видеть в них устойчивые рамки общественных событий, а наоборот, признавать их его конститутивными структурами. Весьма трудно себе представить, что гусеница не была трех дюймов длиной до того, как мы изобрели способ ее измерить, и что если у нас на дворе стоит вторник, то на Сатурне это совсем не обязательно. Можно легко себе представить некоторое пространство, которое кто-то потом обнес стеной, или то, как здорово Брэдфорд вписывается в отведенную для него местность. Действительно, мы постоянно сами оформляем то "ничто", которое называем пространством. Но все равно остаются загадки, на которые у Харви нет ответа. Производство пространства уже требует того, чтобы находиться в пространстве, точно так же, как новое понятие времени может возникнуть только в определенное время. И если колониализм на самом деле может реорганизовывать пространство и время своих объектов колонизации, то на какой пространственно-временной плоскости могла бы состояться их изначальная встреча?
Центральное место в книге Харви занимает диалектика единства и различия, которую он по праву кладет в основу понятия справедливости. Каким образом возможно одновременно избежать как фетишизации частного, так и всеобщего, решительно безразличного к различиям? Если старомодный левый интернационализм смотрел свысока на рассуждения о месте, поле и теле, то сменившая ее политика постмодерна слишком часто была неспособна оторвать взгляд от их содержания. Как нам напоминает Харви, диалектика приходит в наш дом каждое утро вместе с овсяными хлопьями: мы думаем, что находимся один на один с нашим завтраком, тогда как понадобился труд миллионов людей, чтобы доставить его к нашему столу. Постмодернистский взгляд на вещи одновременно и чересчур ограничен, и слишком космополитичен. Ему так свойственно увлекаться несвязностями и разрывами, и в то же самое время вежливо одобрять все возрастающую регламентацию мирового порядка. Харви обещает дать нам более диалектичное отношение части и целого, предоставить в наше распоряжение образ универсального, которое реализуется посредством различий, а не против них. Что верно как для формы его книги, так и для ее содержания, которое отправляется от Лейбница к правилам техники безопасности и от Бахтина и Уайтхеда к могильникам токсичных отходов в долине Миссисипи. Это отнюдь не та география, которую мы учили в школе по картам. Однако подобное искушение идейным богатством граничит с навязчивым желанием увидеть связь всего со всем, что в свою очередь помещает книгу вне рамок науки. Харви слишком часто выглядит так, как будто он расслабленно размышляет вслух, будучи абсолютно уверенным, что никто не посмеет заткнуть ему рот. Структуры его мышления, будучи смелым примером диалектики, слишком быстро выскакивают на улицы, лишь только подчеркивая зияющую пропасть между ними. Харви пишет: "Вирус диалектического/реляционного подхода позволяет проникать в мир разнообразных возможностей, которые в противном случае остаются под замком". Хотя слово "вирус" Харви употребляет в положительном смысле, не стоит забывать и об его виртуальной природе – способности вредить и неконтролируемо распространяться.
Все это, однако, является симптомами общей политической ситуации, а не только ошибок автора. Если сюжет "Справедливости, природы и географии различий" столь неуклюжим образом разворачивается между универсальным пространством науки и специфическим местом политики, то это происходит отчасти и потому, что ее автору ясно, как решение проблем, которые поднимает книга, зависит исключительно от изменения рода наших действий, а не способа мыслить. Харви полагает, что если мы станем принимать участие только в тех экологических проектах, которые не противоречат демократии и идее равенства, то перед нами распахнется сразу множество новых возможностей. Он также не возражает против некоторых постмодернистов - критиков идеи всеобщей справедливости, в то же самое время полагая, что без подобных идей политика будет не возможной. Как Вальтер Беньямин, Харви маниакально коллекционирует всякую теоретическую всячину, поскольку по нынешним временам никогда не знаешь, что может пригодиться. В его книге слишком много позаимствованного из работ коллег, она методически слишком энциклопедична, но едва ли есть еще один подобный западный интелектуал, кто собрал бы столь же многочисленный отряд верных интеллектуальных идиом, или продемонстрировал подобную же преданность им в своей жизни, которая, в конце концов, вообще не является вопросом интеллекта.
Перевод Марии Локосовой и Полины Хановой
тэги
читайте также