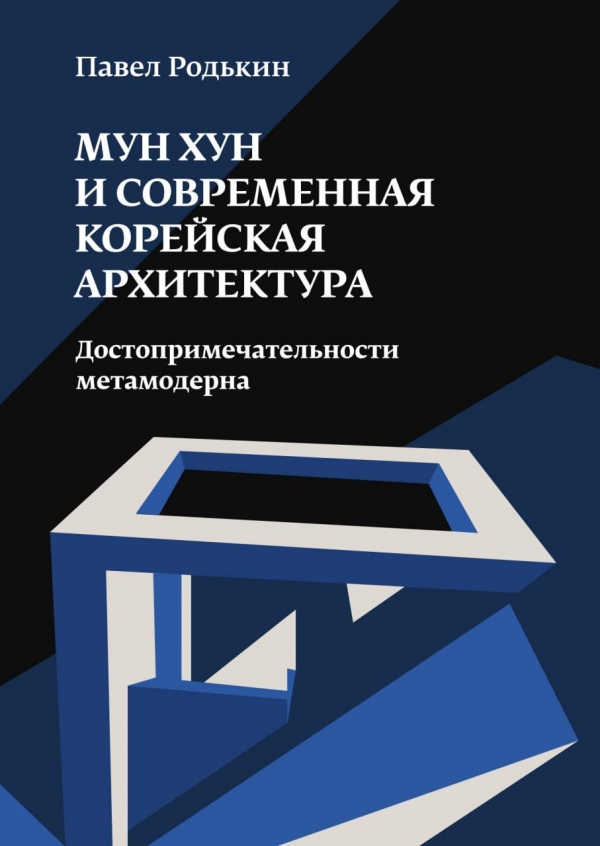О воображении
В издательстве «Совпадение» выходит в свет книга культуролога Павла Родькина «Мун Хун и современная корейская архитектура». С любезного разрешения автора мы публикуем фрагмент этой работы
Архитектура Муна Хуна неотделима от художественного творчества и его графических работ, которые являются одновременно инструментом поиска идеи и ее дальнейшего воплощения и естественным «продолжением» уже созданных зданий. Значимым источником творчества и проектной деятельности Муна является воображение.
Как говорит сам Мун, «мои рисунки включают несколько фэнтезийных проектов, которые, я верю, могут быть реализованы, если мы действительно этого хотим. Некоторые чертежи являются дополнениями к моим созданным проектам с намерением вернуть и показать нереализованные аспекты проектов. Некоторые — просто каракули без цели, которые внезапно кристаллизуются в идеи или архитектурные формы. Я даже детально рисую то, что ел на обед, так что моя книга для рисования похожа на дневник. Я считаю, что все можно мыслить в терминах архитектуры. Если я напишу немного более серьезно, я могу сказать, что мои рисунки — это испытательный полигон для расширения представления об архитектурных возможностях до его внешнего предела, не создавая их на самом деле» [Interview with Аrchitect Moon Hoon, 2014]. Архитектурная форма становится, таким образом, не сужением, а, наоборот, расширением воображения. Воображение является важной составляющей метамодернизма: субъективное захватывает реальность и в том или ином качестве становится массовым.
Графические работы Муна заставляют по-новому взглянуть на его уже реализованные проекты. Графические фантазии, воплощенные в Busan Times или Pino Familia, представляют уже не просто здания, но целые миры, пришедшие в движение благодаря воображению архитектора и художника. Так происходит выход за пределы архитектурной грамматики в сферу метамодернисткой таксономии, устанавливающей новые отношения формы/образа.
Воображение традиционно противопоставляется действительности. Воображаемый человеком мир и воображаемая им реальность постоянно вступают в противоречие со сложившейся системой социальных отношений, с практическим и эмпирическим опытом. Такая оппозиция постоянно укрепляется и раздувается политически: воображение, мечты, фантазии всегда ведут за рамки существующего порядка вещей.
Даже если носитель воображения ничего не делает для его реализации, воображение находится под постоянным подозрением, причем со стороны всех источников и субъектов политической, экономической, религиозной, общественной и технологически–инфраструктурной власти. Гравюра Матье Гройтера «Операция, в которой удаляются все фантазии и безрассудства и прописываются хорошие качества» (ок. 1600 года) иллюстрирует универсальный подход к проблеме воображения: от воображения можно избавиться, его можно «вылечить» чисто медицинскими и дисциплинарными средствами.
Воображение есть то, с чем обязывает себя бороться система социальной власти; благоразумному и ответственному гражданину не подобает придаваться ему. Крайне здравомысленный, с житейской точки зрения, тезис Лейбница: этот мир — лучший из всех возможных миров — является хоть и оправданным онтологически, но при этом крайне реакционным политически. Альтернативный, параллельный, возможный и т. д. мир всегда является воображаемым. Главная вина нелепых героев классической литературы или массовой культуры заключается в том, что все они воображают не абстрактное будущее, а настоящее, повседневную реальность. Порицаемая и высмеиваемая общественной моралью способность допустима разве что для художника, но с обязательным уточнением, что его творчество «ненаучно».
В художественном произведении воображение становится отдушиной для масс и одновременно памятником их исторического поражения. Антонио Грамши в «Тюремных тетрадях» делает наблюдение о романе «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма: «Роман-фельетон заменяет человеку из народа фантазирование и вместе с тем будоражит его воображение, это самые настоящие сновидения в состоянии бодрствования. Надо бы посмотреть, что говорят Фрейд и психоаналитики о сновидениях в состоянии бодрствования. В данном случае можно сказать, что у народа фантазирование порождено «комплексом неполноценности» (социальной), обусловливающим длительность фантазий о мести, о наказании тех, кто виноват в постигших народ бедах. В «Графе Монте-Кристо» наличествуют все элементы, которые позволяют лелеять такого рода мечты, а следовательно, дают наркотик, облегчающий чувство боли» [Грамши, 1991: 12]. На этом наблюдении Умберто Эко выстраивает концепцию супермена для масс [Эко, 2018].
Как доказал в своих экспериментах Лев Кулешов, зритель (человек), даже будучи пассивным потребителем произведения, выступает как художник, способный достраивать и конструировать «в голове» динамический образ (реальность), его смысловые и пространственные отношения. Эта способность цинично используется в брендинге: бренд — это то, что происходит в голове у человека, когда он слышит или видит продукт или компанию, гласит одно из его классических определений. Аналогичным образом она реализуется в меда: значения вещей, с которыми сталкиваются акторы коммуникации, не находятся в самих вещах, но появляются в ходе взаимодействий с ними, — утверждает теория медиафрейминга, фактически повторяя главный тезис Кулешова о том, что смысл заключен не в кадре, а в процессе соединения двух кусков разных содержаний и способе их соединения и чередования [Кулешов, 1929: 16]. Другое дело, что маркетинг и коммуникация, построенные на данных, намеренно сдерживают и ограничивают такое воображение, которое грозит разрушить и деконструировать коммуникативную и ценностную систему рынка.
Рынок и коммуникация враждебны воображению масс и пытаются навязать им эту враждебность; пока ты мечтаешь об обладании вещью, твой сосед уже приобрел ее. Воображение дискредитируется и подвергается цензуре. При создании лишенных всякого смысла рекламных образов и слоганов брендинг и маркетинг вынуждены опираться на примитивные эмпирические данные. Однако сам рынок находится в двусмысленном положении относительно воображения, одновременно подавляя и производя его. «Большую часть жизни мы проводим в сменяющих одна другую декорациях, образцами для которых служат воображаемые образы того мира, в котором мы бы хотели жить, а не того, который нас окружает» [Суджич, 2017: 20].
Потребность общества потребления в воображении вместо искусства должен был удовлетворять дизайн. Но коммерческий дизайн, как отмечают Энтони Данн и Фиона Рэби, «полностью интегрировался в возникшую в 1980–х годах неолиберальную модель капитализма, которая рассматривала иные виды дизайна как экономические нецелесообразные, а потому ненужные». После окончания холодной войны альтернативные модели общества потерпели крах, и реальность сжалась до одномерного состояния [Данн, Рэби, 2017: 20]. В ХХ веке искусство столкнулось с конкуренцией дизайна, который не только вообразил, но и реализовал новый мир, наполненный новыми формами, но уже в конце ХХ века сам дизайн был поглощен коммуникацией.
Рынок превращается в одну из самых устойчивых форм равнодушия к культуре и миру. Но он все еще зависит от воображения, которое одно только и способно хоть как–то наполнить его смыслом, а рыночные товары и услуги — ценностью, которая так легко конвертируется в стоимость, и в конечном счете в прибыль. Таким образом, воображение включается в производстве не только революционного действия, но и стоимости (ценности). Но при этом рынок ставит воображение под жесткий контроль практических дисциплин, пытаясь заменить его алгоритмами и даже искусственным интеллектом, прячась за рациональностью и серьезностью.
Воображение способно преодолеть пределы роста капитализма, но именно оно может и опрокинуть рынок и все маркетинговые коммуникации, оголить их бессмысленность и иррациональность[1]. Воображение, освобожденное от функции производства стоимости, является для рынка разрушительной рациональной утопией.
Проблема заключается не в отсутствии изобретательности и креативности в маркетинге, брендинге и рекламе. Нищета рыночного воображения обнаруживается в его неспособности выйти за пределы рынка, осуществить, подобно искусству, дрейф, причем не только по отношению к капитализму, но практически ко всем предшествующим ему формациям. Легче вообразить конец света, чем конец капитализма — именно этот слоган Марк Фишер кладет в основу того явления, которое он называет «капиталистическим реализмом» [Fisher, 2009: 2]. Пресловутая пустыня реальности — образ, использованный Бодрийяром для описания Америки[2] и зло спародированный затем в «Матрице» братьев/сестер Вачовски (1999), — и является миром без воображения.
Играя по всем рыночным правилам при отсутствии альтернатив, художник интуитивно ищет способы внерыночного смыслового высказывания. Несомненное коварство искусства и культуры заключается в том, что даже самая лестная и льстивая апология действительности всегда содержит ее критику. Это очень хорошо осознавала власть в прошлом и интуитивно понимают современные корпоративный менеджмент и государственная бюрократия.
Актуальному искусству в этом отношении даже не нужно держать «фигу в кармане», как это происходит в консервативных обществах — само художественное произведение как таковое и есть пощечина общественному устройству. Любой без исключения объект, который становится художественным произведением, является вызовом буржуазной политэкономии, что одним из первых понял Марсель Дюшан в «Фонтане» (1917), а Маурицио Каттелан довел до совершенства в «Коммедианте» (2019) [см.: Родькин, 2021].
Искусство попадает в зависимость от рынка, в том числе рынка идеологий, который заставляет художника искать наиболее выгодные и этически приемлемые формы существования. Художник стремится занять суперпозицию по отношению к обществу и идеологии, с которой актуальное искусство ведет бесконечную атаку не только на реальность, но и на действительность. Анализ воображения в пространстве социального, рыночного и политического позволяет сделать вывод о том, что воображение достаточно часто подвергается взаимоисключающей критике и признается опасным, если оно:
- устремлено в «несбыточное» будущее;
- признано устарелым;
- не опирается на эмпирические данные;
- противоречит социальной, политической и экономической реальности и действительности.
Политическая и рыночная власть всегда стремятся к нарушению негласного общественного договора: мы не трогаем вашу действительность, но и вы не трогайте наше воображение. Художественное произведение может свободно, «из головы» переосмысливать объективную реальность, производить субъективную интерпретацию любого факта и типа данных, наделять реальность своим собственным видением. Искусство как последнее пристанище воображения опровергает догму о том, что реальность должна исходить исключительно из фактов и данных действительности.
Искусство не отвергает действительность — напротив, оно неутомимо работает с вещами и объектами общества потребления, но при этом рождает совершенно другой критический контекст их потребления. В художественном воображении происходит переосмысление реальности, причем с помощью освобождения действительности. Искусство, пусть и «контрабандно», сохраняет автономию от рынка и свободу сознания, пусть даже «в голове».
Кант подвергал воображение критике непосредственно применительно к творчеству: «Воображение, впрочем, далеко не такая творческая способность, как это иногда думают». Данное утверждение Кант аргументировал следующим образом: «Для разумного существа мы не можем найти никакой другой подходящей фигуры, кроме человека. Поэтому ваятель или художник, когда они пытаются изображать божество, всякий раз создают его в виде человека. Каждая другая фигура, на их взгляд, заключает в себе некоторые подробности, которые по своей идее не могут быть совестимы со строением разумного существа (таковы круглые когти, копыта). Но величину он может изображать в какой угодно форме» [Кант, 2017: 53]. И далее. «Ошибка, вызванная силою воображения, у людей часто идет так далеко, что то, что они имели только у себя в голове, они видят и чувствуют с полным убеждением и вне себя» [Кант, 2017: 53]. Как замечает Евгений Басин, «смешение знаков с вещами, стремление увидеть в знаках внутреннюю реальность, как если бы предметы должны были сообразовываться со знаками, Кант иронически называет "странной игрой воображения с людьми"» [Басин, 2015: 89].
По Чернышевскому, в искусстве воображение не может превзойти и возвыситься над действительностью, воображение только копирует объект действительности, причем заведомо хуже. «Воображение строит свои воздушные замки тогда, когда нет на деле не только хорошего дома, даже сносной избушки. Оно разыгрывается тогда, когда не заняты чувства; бедность действительной жизни — источник жизни в фантазии. Но едва делается действительность сколько-нибудь сносною, скучны и бледны кажутся нам перед нею все мечты воображения» [Чернышевский, 1955: 49].
Чернышевский отрицал способность воображения предшествовать действительности: «Силы "творческой фантазии" очень ограничены: она может только комбинировать впечатления, полученные из опыта; воображение лишь разнообразит и экстенсивно увеличивает предмет, но интенсивнее того, что мы наблюдали или испытали, мы ничего не можем вообразить» [Чернышевский, 1955: 80]. Если у Канта воображение ограничено в изображении божества, то у Чернышевского эта ограниченность переносится и на материальный мир.
Фактически критика Чернышевского предвосхищает современные коммуникации и культуру, построенные на данных: то, что отсутствует в данных и не является эмпирическим производным от них, не заслуживает права на существование. Большой соблазн — записать искусство в формальный способ визуализации социального воображения: таким бы его хотели видеть власть и ее различные источники. В культуре и искусстве действительность не эквивалентна реальности, но воображение в искусстве не вторично по отношению к действительности. Реальность может стать фальшивой, чем пользуются маркетинг и коммуникация и от чего решительно пытается уйти искусство.
Воображение в искусстве, даже если оно принимает явные невротические формы, — рационально, что заставляет вспомнить критику сюрреализма у Дебора[3]. Целостное воображение включает в себя и разум, и чувство. Если бы это было не так, то изображение или инсталляция как предмет конструирования не были бы созданы и построены.
Вопреки линейной позитивистской логике, воображение не есть абстракция и эфемерность — напротив, оно имеет конкретные материальные формы и проявления. Как и любая идея и смысловая конструкция, оно обретает форму в виде социальных, экономических и политических институтов и человеческих действий. На фундаментальном уровне о реальности воображения, пожалуй, можно высказаться еще резче: то, что нельзя вообразить — и есть небытие. Здесь можно согласится даже с идеалистическим выводом Джорджа Беркли: существование и немыслимость являются несовместимыми предикатами в том смысле, что все, что не поддается воображению в любой его форме, не существует и нереально.
Жак Деррида, анализируя рассуждения Жан–Жака Руссо о воображении, сделанные им в работе «Эмиль, или О воспитании», выделяет положение о необходимости уменьшения переизбытка желаний, которое оживляет воображение человека по сравнению с его возможностями: «Именно в этом первоначальном состоянии возникает равновесие между силой и желанием, и человек не знает несчастья. Как только его виртуальные способности вступают в действие, так воображение — самая живая из них — пробуждается и опережает другие… Напротив, чем ближе человек к своему естественному, природному состоянию, чем меньше различие между его способностями и его желаниями, тем доступней для него счастье… Реальный мир — ограничен, воображаемый мир — не имеет границ; если мы не можем расширить один, сузим другой, ибо именно различие между этими мирами порождает страданья, которые делают нас несчастными».
Из этого ограничения, полностью противоположного тому, что утверждали Кант и Чернышевский, Деррида делает следующий вывод: «Будучи "самым живым из всех" человеческих способностей, воображение не может быть разбужено никакой другой способностью. Когда Руссо говорит "воображение пробуждается", над этим стоит задуматься. Своим возникновением изображение обязано лишь самому себе. Будучи воображением, оно ничего не творит. Вместе с тем оно не допускает ничего такого, что было бы ему чуждо, что возникло бы раньше. "Реальное" не может на него воздействовать. Оно есть чистое самовозбуждение» [Деррида, 2000: 346–347].
В искусстве воображение отсылает человека к идеальному, утопическому. Такова чистая архитектура в итальянской живописи эпохи Возрождения, «которой никогда не существовало в реальности, но к которой люди испытывали влечение» [Алпатов, 1979: 31]. Такова попытка репрезентации чистой чувственности и идеального, утраченного прошлого и исторического идеала в романтизме, которых также никогда не существовало в действительности.
Эталоном этого воображения становится нарочито подробный и детально проработанный и продуманный образ Вавилонской башни в европейской живописи наподобие «Здания Вавилонской башни» Хендрика ван Клева III (XVI в.). Возможно, такая реалистичность играла терапевтическую функцию: библейский символ больше не вызывал устрашающего аффекта. Колониализм, а затем и империализм не должны были чувствовать себя реконструкторами подверженной божественному разрушению Вавилонской башни. Архитектурным ответом этому воображаемому сооружению стал, правда не возведенный, Памятник III Интернационалу — башня Владимира Татлина (1919), вобравший в себя энергетику советского авангарда, который создавал предметный мир и символическую реальность нового общества.
Проблема действительности становится неразрешимой для систем, основанных на идеи конца истории. И капиталистический, и социалистический реализм в искусстве и в жизни в одинаковой мере иллюстрируют эту проблему невозможности дальнейшего исторического развития и выхода за рамки конечной точки. Воображение реконструирует реальность, заполняя пустоты и трещины социальной структуры (таблица 6).
Таблица 6. Воображение и реальность
|
Воображение (реальность в искусстве) |
Реальность (действительность) |
|
Пространственная бесконечность и трансграничность |
Невозможность свободно передвигаться в пространстве (государственные границы, плата за передвижение, частная собственность), ограниченный доступ к природе и окружающей среде |
|
Изобилие |
Неравенство, неравный доступ к пище, образованию, развлечениям |
|
Тело |
Платная медицина, медицинские услуги вместо помощи |
|
Чистая архитектура |
Строительство, девелопмент |
|
Целостность |
Фрагментарность, мозаика |
|
Экспрессивность, субъективность |
Дресс-код, правила, данные |
|
Высказывание |
Дискурс, коммуникация |
|
Переработка и перераспределение смыслов / бессмыслицы |
Производство смыслов / бессмыслицы |
Воображение в искусстве преодолевает все «невозможные» ограничения действительности, и тем важнее перенести его в архитектуру, что и делает Мун Хун. Фантастические образы города, летающие тарелки, шагающие дома, небоскребы, лабиринты, необычные ландшафты — все это часто возникает в работах Муна и позволяет понять, как художник и архитектор видит потенциал формы и пытается раскрыть его теми средствами, которыми он обладает сегодня. Это воображение захватывает и заказчиков Муна.
Воображение — реальность, которая выше действительности, но которая, разумеется, при этом неотделима от нее. Воображение есть переживание действительности и возведение ее в реальность. Поэтому и реалистическое, и абстрактное искусство, искусство социалистического и капиталистического реализма можно по–разному противопоставлять объектам действительности, но невозможно противопоставить его воображению этих объектов.
Воображение не абстрактно — напротив, оно конкретно и предметно, формализуемо в ясных, предметных образах. Компьютеры, полеты в космос, термоядерная война, продление жизни и т. п. — «фигуры» воображения, которые сохранились не только как предмет конкретной деятельности, но и как образы (объекты) массовой культуры. Дизайн воображения проработан и детален: собственно, за это и отвечает искусство. Художник воображает реальность, не отстраняясь при этом от действительности, наоборот, он использует ее, подвергая деконструкции и переработке, осуществляя трансгрессию и запуская опасную цепочку идей и интерпретаций.
Как замечает Дэниел Белл, «модернизм, вне всякого сомнения, был ответственен за один из величайших всплесков творчества в западной культуре. В период с 1850 по 1930 годы, вероятно, было больше разнообразных экспериментов в литературе, поэзии, музыке и живописи, если не больше великих шедевров, чем в любой другой известный нам период. Многое из этого возникло из творческого напряжения культуры с ее враждебной позицией против буржуазной социальной структуры. И все же за это пришлось заплатить… Огромная цена была заплачена, когда различие между искусством и жизнью стало размытым» [Bell, 1976: xxii–xxiii].
ХХ век стал эпохой авангардистского и модернистского воображения, множественности воображений, которые противостояли друг другу. Но уже в конце «долгого» ХХ века воображение в его героической и бескорыстной форме оказалось исчерпанным. Ведь, как отмечает Терборн, «ни либерализм, ни социализм, ни национализм — три основные модернистские политические силы ХIХ-ХХ вв. — не способны более на достоверные обещания "светлого будущего"» [Терборн, 2015: 153].
Величайший проигрыш человечества в XXI веке заключается в том, что оно проиграло борьбу в одинаковой мере как за реальность, так и за действительность. Действительность подверглась тотальному отчуждению, а реальность контролю. Мир второй половины ХХ века во многом был создан воображением «бумеров»[4] (в возрастном и политическом смысле) массового общества всеобщего благоденствия, массовой культуры и массового человека. Сегодня оно захвачено бумерскими страхами перед угрозой перенаселения планеты и истощением ресурсов.
Жильбер Дюран делает важный вывод, о том, что все наше воображение рождено переживанием неизбежного, травмирующего и априорно непостигаемого события — смерти [Durand, 1999]. Человеческая природа, физиологическая конечность человека берут здесь вверх над утопиями социального рая, изгоняя все социальное из дискурса будущего. Используя понятийный аппарат Дюрана, режим «диурна» сменился на режим «ноктюрна». Бумеры напуганы неизбежностью смерти, они больше, чем какое–либо из поколений, стремятся к бессмертию.
Общество не свободно от способа производства и отношений власти—подчинения, но также оно не свободно от воображения. Люди всегда воображали себя и свой мир — и будут продолжать это делать. В художественном произведении и в архитектурной форме получают визуальное выражение не только реальность/действительность, но и мысль и чувства человека, его индивидуальность, сознание и свобода воли. Попадая в пространство «умного города», важно сохранять возможность субъективности и воображения, что является проблемой метамодернистской структуры чувства.
То, что архитектура Муна Хуна поднимает подобные проблемы, не всегда, на первый взгляд, связанные с архитектурой, выводит ее на новый уровень переосмысления и преобразования действительности. Задачей, которую следует поставить культурной политике будущего, является распространение этого подхода на повседневную жизнь массового человека. Эта утопия, пожалуй, соразмерна масштабу творчества Муна.
Библиография
Алпатов М. Этюды по всеобщей истории искусств. М.: «Советский художник», 1979. — 288 с.
Басин Е. Искусство и коммуникация. СПб.: Алетея, 2015. — 188 с.
Бодрийяр Ж. Америка. СПб: Издательство «Владимир Даль», 2000. — 206 с.
Грамши А. Искусство и политика: В 2–х т, Т. 2. М.: Искусство, 1990.— 336 с.
Данн Э, Рэби Ф. Спекулятивный мир: дизайн, воображение и социальное визионерство. М.: Strelka Press, 2017. — 264 с.
Дебор Г. Ситуационисты и новые формы действия в политике и искусстве. Статьи и декларации 1952—1985. М.: Гилея, 2018. — 388 с.
Деррида Ж. О грамматалогии. М.: Ад Маргинем, 2000. — 512 с.
Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. М.: ЛЕНАНД, 2017. — 200 с.
Кракауэр З. Орнамент массы. Веймарские эссе. М.: Ад Маргинем Пресс, Музей современного искусства «Гараж», 2019. — 240 с.
Кулешов Л. Искусство кино (мой опыт). Теа-Кино-Печать, 1929. — 155 с.
Родькин П. Метамодернистский аттракцион. Искусство, архитектура, дизайн, кино, политика. М.: Совпадение, 2021. — 416 с.
Суджич Д. В как Bauhaus. Азбука современного мира. М.: Strelka Press, 2017. — 400 с.
Терборн Й. Мир: Руководство для начинающих. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — 336 с.
Чернышевский Н. Эстетические отношения искусства к действительности. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1955. — 224 с.
Эко У.Superman для масс. Риторика и идеология народного романа. М.: Слово, 2018. — 248 с.
Bell, D. (1976). The Cultural Contradictions of Capitalism. New York: Basic Books. — XXXIV + 301 p.
Durand, G. (1999). The Anthropological Structures of the Imaginary. Boombana Publications. — 448 p.
Fisher, M. (2009). Capitalist Realism: Is There No Alternative? London: Zero Books. — 81 p.
Interview with architect Moon Hoon. (2014) URL: https://www.designboom.com/architecture/moon–hoon–interview–10–24–2014/
Родькин П. Мун Хун и современная корейская архитектура. Достопримечательности метамодерна. М.: Совпадение, 2022. — 264 с.: табл., ил.
[1] «Однако рациональная сторона капиталистической экономики — это не просто разум, но разум замутненный. В определенный момент он отказывается от истины, в коей есть доля его участия. Этот разум не включает в себя человека. В процессе производства с интересами последнего не считаются, не он составляет фундамент общественно–экономического устройства. Нет ни одного примера, доказывающего, что нынешняя система основана на человеке… Капитализм не слишком, а недостаточно рационален. Свойственное ему мышление противится совершенству разума, к коему человек взывает по своей природе», — замечает Зигфрид Кракауэр в «Орнаменте массы» [Кракауэр, 2019: 46].
[2] В эссе «Америка» Бодрийяр писал: «Принцип воплощенной утопии объясняет отсутствие метафизики и воображения в американской жизни, а также их бесполезность. Он создает у американцев восприятие реальности, отличное от нашего. В реальном нет ничего невозможного, и никакие неудачи не могут заставить усомниться в этом. Что было помыслено в Европе, реализуется в Америке — все, что исчезает в Европе, вновь появляется в Сан-Франциско» [Бодрийяр, 2000: 159].
[3] «Ошибка, лежащая в основании сюрреализма, — идея о несметном богатстве бессознательного воображения. Причиной идеологического поражения сюрреализма кроется в убеждении, что бессознательное является огромной жизненной силой, наконец обнаруженной… Теперь мы знаем, что бессознательное воображение бедно, что автоматическое письмо монотонно, и что всякая «необычность» окаменелого сюрреалистического подхода является крайне предсказуемой», — пишет Дебор [Дебор, 2018: 85].
[4] Поколение беби–бумеров — термин, применяемый к людям, родившимся в период с 1946 по 1964 годы. Второе дыхание понятие «бумер» получило после ставшей крылатой и популярной благодаря ролику в TikTok фразы «ОК, бумер».
тэги
читайте также