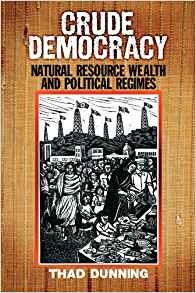Афины и Google. Нефть, газ и серебро прямой демократии
О книге Джозии Обера "Демократия и знание: инновации и обучение в классических Афинах" (Democracy and Knowledge: Innovation and Learning in Classical Athens, Princeton, 342 pp., November 2008)
"Мудрость толпы: почему многие умнее, чем немногие". "Мышление-через-мы: власть креативных масс". "Инфотопия: как умы многих производят знания". "Викиномика: как массовое сотрудничество изменяет все что угодно". Это названия лишь некоторых из книг, опубликованных за последний год и посвященных самой горячей теме нашего времени - знаниям, их агрегации и тому, как большое число различных людей, многим из которых известно немногое, может, в конечном счете, изменить практически все. Очевидным стимулом подобных публикаций является, конечно, интернет, породивший множество возможностей поиска всего того, что известно людям, и объединения всех этих знаний вместе. Если вы посмотрите на эти книги в книжных магазинах (что само по себе является довольно забавной идеей, поскольку вообще-то вы должны покупать их онлайн), вы заметите, что они стоят в разделах по бизнесу или менеджменту, где все их назидания, касающиеся открытости, гибкости, инновативности и необходимости слушать клиентов во время разговора с ними, находят самое непосредственное применение. Однако авторы таких книг обычно более амбициозны и потому стремятся применять свои понятия и за границами менеджерской науки, в том числе и в социальной политике. Если бизнес может пользоваться мудростью толпы, чтобы предсказывать, чего на самом деле хотят люди, чтобы придумывать новые способы обеспечения их этим новым и чтобы проверять, в самом ли деле это новое работает, почему так же не поступать и политикам?
Объединение знаний в один ресурс - это идея, которую, по мнению многих модных авторов, можно применить к политике совершенно новым и весьма заманчивым способом. Но загвоздка тут в том, что практически никто не желает признавать, что подобное объединение знаний - это, вообще-то, одна из наиболее древних идей: это старая идея демократии, при которой вы спрашиваете как можно больше людей о том, что они думают, а потом используете полученную информацию, решая, что делать. Почему никто не хочет сознаваться в том, что все эти сверхновые идеи - очень, очень хорошо забытые старые? Думаю, на то есть три причины. Во-первых, люди все еще сбиты с толку смешными заявлениями во славу электронной демократии, которые были сформулированы на заре эпохи интернета. В период раннего расцвета новой технологии казалось, что политика должна стать более демократичной, и что политики вот-вот войдут в прямой контакт с предпочтениями избирателей, так что они должны будут постоянно проводить онлайновые референдумы по самым разным вопросам. Но, конечно, ничего такого не случилось. Во-вторых, это все равно не то, что мы имеем в виду под демократиями. Наши демократии - это не прямые демократии, а представительные, то есть выстроенные сверху вниз, ориентированные на лидерство состязания за популярность, а не упражнения по агрегации знаний. В-третьих, даже если нам известно, что когда-то был другой путь демократии, - то есть прямой, при которой граждане объединяли свои ресурсы, менялись постами и пытались действовать совместно, - это было так давно, что эта демократия кажется чудовищно далекой от забот нашего дня. Возьмите, например, древние Афины, которые обычно описывают как колыбель демократии. Вряд ли их можно считать образцом для распределения информации в эпоху интернета. В заслугу Афинам можно поставить многое - философию, ораторское искусство, драму и замечательные строения, - но это также общество насилия, групповых интересов, капризов, войн и рабовладения, общество, цеплявшееся изо всех сил за свою привилегированную позицию и постоянно вступавшее в сражения, которые оно не могло выиграть. В общем, ничего похожего на эдакий Google (чей лозунг, как известно, "Не будь злым" - "Don’t be evil") древнего мира.
Но вот Джозия Обер может сказать нам, что в этом последнем пункте мы решительно заблуждаемся. Мы думаем об Афинах так, как мы думаем, потому что нас ввели в заблуждение наиболее известные древние источники (начиная с Платона), в которых часто обсуждаются провалы и ошибки афинской демократии, тогда как ее сильные стороны, включая приспособляемость и долговечность, либо опускались, либо намеренно преуменьшались. Современные историки древнего мира, такие как Обер, считают, что у них есть достаточно прямых свидетельств того, как афиняне действовали на практике, выходя за пределы этих предвзятых рассказов, и потому видят афинскую демократию в истинном свете - то есть как открытое, гибкое, динамичное и чрезвычайно успешное в политическом отношении общество, способное правильно управлять своими ресурсами и, соответственно, обыгрывать своих конкурентов. Обер считает, что во многих весьма значимых отношениях Афины были как раз Гуглом древнего мира. И если это так, нам, возможно, придется пересмотреть и наше сдержанное отношение к демократической природе мудрой толпы. Может быть, мы ошибаемся, предполагая, что демократия в современном мире не может быть ничем кроме состязания за популярность? В таком случае нам, возможно, стоит перестать бояться радикального потенциала демократизации, присущего интернету.
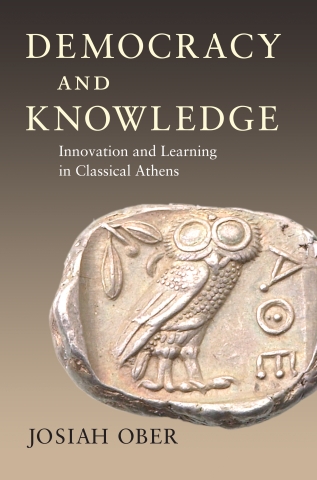
Многое зависит от того, прав ли Обер в вопросе об афинской демократии. По существу, в его рассуждении две части. Во-первых, ему нужно показать, что Афины на самом деле превосходили своих конкурентов и потому стали самым успешным политическим образованием тех времен. Во-вторых, ему надо показать, что это преимущество было непосредственным результатом того, что Афины были демократией, поскольку в качестве демократии они были способны приобретать, объединять и кодифицировать знания тем образом, с которым не могли соперничать их недемократические конкуренты. Доказывая то, что Афины были главным полисом, Обер опирается на обширную базу свидетельств и подтверждений, которые позволяют сравнить сотни греческих городов-государств и выстроить их по различным критериям, включая размер, славу, международную деятельность и общественное строительство, а также превалирование их валют в обнаруженных запасах монет того времени (вполне разумной посылкой является то, что если люди стремились сохранять монеты какого-то государства, оно должно было иметь в те времена весьма устойчивую репутацию).
По всем показателям Афины неизбежно оказываются на самом верху, значительно опережая своих соперников. Они далеко обогнали двух наиболее важных конкурентов - автократические (хотя и не всегда) Сиракузы и сурово-олигархическую Спарту. Глава, в которой Обер формулирует этот вывод, иногда читается как пародия на современную социологию: слава Афин частично определялась тем, что он называет "рейтингом цитирования", то есть тем, сколько раз они упоминаются в сохранившихся литературных текстах. Выяснилось, что Афины цитируются гораздо чаще всех остальных полисов, хотя, как допускает Обер, причина может заключаться просто в том, что значительная доля сохранившихся текстов была произведена в Афинах афинскими же гражданами (Фукидид, Платон, Демосфен) или долгое время проживавшими в Афинах чужеземцами (Аристотель, Лисий). Но что говорит нам тот факт, что больше всего наиболее известных авторов было именно в Афинах? То, что это был быстроразвивающийся культурный центр, способный одержать верх на всем поле литературы в целом. Запишем еще одну победу на счет этих умных афинян.
Несмотря на некий оттенок педантизма, которым окрашена подобная попытка показать то, что древние Афины славятся по праву, а не просто потому, что они такие известные, сложно спорить с тем, что в Афинах действительно было нечто такое особенное. Вопрос только в том, что именно? Чтобы доказать, что такой особенностью была демократия, Обер переходит от статистического к хронологическому описанию. Это ему нужно, поскольку ему известно (благодаря главным образом Фукидиду), что историю афинской демократии проще связать с поражением и кризисом, а не с инновацией и успехом. Обычно вспоминается момент, когда афиняне реально сели в лужу - во время сицилийской экспедиции 413 г. до н.э., которая была опрометчиво одобрена афинским собранием, а в итоге стоила Афинам их флота, надежд выиграть Пелопонесскую войну и, в самом скором времени, самой демократии. Но Обер желает, чтобы мы видели картину в целом, а она включает в себя длительный период роста и экспансии V в. до н.э., позволивший Афинам занять такую позицию, благодаря которой они как раз и смогли совершить ошибку масштаба сицилийской экспедиции, а также длительный период возрождения и обновления в IV в. до н.э., который дал возможность восстановить могущество полиса. Обер настаивает, что у двух этих периодов общим является то, что это были времена расцвета афинской демократии. Демократия возникла в Афинах около 500 г. до н.э., с нею афиняне прошли через Персидские войны, она дала им бурно развивающуюся экономику и империю, как и позволила им поспорить с военной мощью Спарты, прежде чем наступил момент имперского перенапряжения, из-за которого все и рухнуло. Но и после этого она вернулась. После краткой олигархической интерлюдии демократия была восстановлена в Афинах в 403 году до н.э., и хотя афинянам так и не удалось восстановить свою империю, они заново отстроили экономику, восстановили свою торговую репутацию, модернизировали город за счет обширной программы общественных работ и стали ввязываться в почти непрерывные войны с многочисленными могущественными соперниками. Только к концу четвертого века до н.э., во времена подъема Македонии и, что более важно, Рима, афинская демократия пришла к своему концу вместе со всеми остальными городами-государствами Греции, которые она постоянно затмевала.
"Если исключить краткосрочные подъемы и спады, - пишет Обер, - и "афинская демократия" (определяемая в качестве закрепленного за мужчинами права голоса, правления большинства и авторитета закона), и "афинская производительность" (определяемая способностью осуществлять проекты в областях внешней политики, внутренней политики и общественного строительства) отображаются двумя весьма сходными кривыми... Другие полисы с другими конституционными историями демонстрируют весьма отличные "кривые производительности" в тот же самый период". Это ядро развиваемого Обером доказательства: Афинам было хорошо, когда все хорошо было и с демократией, причем успех демократии был причиной успеха Афин. Но как можно быть уверенным в то, что вторая посылка вытекает из первой, то есть в том, что успех демократии обусловил успех Афин, а не наоборот? Возможно, демократические институты расцвели именно потому, что наличествовали все политические институты, необходимые для процветания (хорошая экономика, хорошая война, немного удачи). Обер рассматривает эту возможность, однако отвергает ее на том основании, что демократия может объяснить успех Афин так, как ни что иное. В истории Афин демократия появляется до роста производительности: она возникла тогда, когда Афины были скорее в яме, да и восстановлена она была, когда дела Афин снова шли не лучшим образом, поэтому, как только демократия появляется, Афины начинают процветать. Кроме того, афинская демократия не просто однажды подтолкнула экономический рост, но делала это снова и снова; в более поздний исторический период ей удалось сделать это даже в отсутствие значительной империи, что указывает на то, что имперская власть в лучшем случае является симптомом, а не причиной ее успеха. Обер не думает, что демократия объясняет все, он лишь считает, что она объясняет намного больше, чем все остальное.
Однако есть еще кое-что, что может многое объяснить. Около 500 г. до н.э. у афинян появилась демократия, но меньше чем через двадцать лет им еще и крупно повезло, когда они обогатились за счет открытия новой базы месторождений серебра в южной Аттике, которые дали непредвиденный всплеск прибыли государства и заложили основание для его долгосрочного роста. В значительной мере это богатство было обусловлено тем фактом, что рудники можно было достаточно легко разрабатывать (хотя они и требовали армии рабов, трудившихся в отвратительных условиях), так что Афины стали единственным городом-государством, который мог свое благосостояние выкопать буквально из земли. Обер вплетает этот лакомый кусочек естественного преимущества в собственную историю демократических достижений, указывая на то, что, когда собранию нужно было решить, что делать с первыми дополнительными доходами, оно решило потратить их на постройку флота, который нанесет поражение персам в Саламинском сражении 480 г. до н.э., а не распределить их между отдельными гражданами. Этот шаг можно сравнить, например, с Аляской Сары Пэйлин (Аляска - это, конечно, один из наименее вероятных кандидатов на вечно оспариваемый титул "северных Афин"). Когда в начале прошлого года поднялись цены на нефть, Пэйлин решила использовать этот дополнительный доход штата для выделения каждому жителю кредита в 1000 долларов, чтобы тот мог расплатиться по своим счетам на топливо. Древние демократии использовали свои сверхприбыли, когда принимали трудные решения, преследовавшие общие интересы, тогда как современные демократии используют их, чтобы подкупить избирателей подачками.
Обер указывает на то, что способность афинян использовать свои естественные преимущества в стимулировании экономического роста и в политической экспансии является свидетельством их демократической силы. "Исследователи развивающихся экономик, - пишет он, - предложили теорию "ресурсного проклятия": чрезмерно богатые запасы естественных ресурсов, снижая стимулы к развитию инновативных форм социальной кооперации, в действительности могут тормозить экономический рост". Если, как говорит Обер, афинянам удалось преодолеть это проклятие, то лишь по той причине, что у них было кое-что еще кроме серебряных рудников, а именно демократические институты, которые помогли им выбрать лучший способ использования поднимаемого из земли богатства, которое стало их общим преимуществом. Также им удалось преодолеть ресурсное проклятие в ином смысле, ведь легко эксплуатируемые природные богатства зачастую ведут к развитию автократии, а не демократии, поскольку если государствам не нужно заботиться о согласии граждан платить налоги, им, на самом деле, вообще не нужно заботиться о каком-либо согласии граждан. Томас Фридман в Foreign Policy назвал этот эффект "первым законом петрополитики": "Цена на нефть и вектор свободы всегда направлены в противоположные стороны". Серебро - это не нефть, однако в древнем мире оно было чем-то подобным. Тем не менее, в Афинах появление источника легких доходов совпало с усилением демократических свобод, а не наоборот.
Так что же все-таки является движущим фактором истории афинского успеха? Обер соглашается с тем, что дополнительный источник дохода помог, однако настаивает, что, когда дело касается политики естественных ресурсов, решающее значение имеет не то, что у вас есть, а то, что вы собираетесь с этим делать. И все же следует с некоторой долей скепсиса отнестись к тому факту, что афиняне решили потратить свои шальные деньги на общественные блага (флот), вместо того, чтобы раздать их в виде частных подачек индивидам. В конце концов, при принятии решения они обладали еще одним преимуществом - а именно миллионом персов, стоявших лагерем у границ, что, вероятно, должно было привлечь их внимание. Неясно, какой эквивалент этой ситуации можно было бы найти в случае Аляски. Несомненно, Пэйлин могла бы указать на Россию, но в ее случае вывод был бы совсем иным: во-первых, если бы русские решили вторгнуться на Аляску, дополнительный расход на флот из расчета 1200 долларов на человека вряд ли что-то изменил бы; а во-вторых, именно становящееся все более автократичным российское государство Путина решило тратить свои нефтяные доходы на военное оборудование и на имперские программы. Демократии, как могла бы сказать Пэйлин (при условии, что к ней вернется ее чувство юмора), повышают общее благосостояние; а автократии накапливают богатство, а потом безрассудно растрачивают его. Россия похожа на классическую иллюстрацию закона Фридмана. Если так, древние Афины замечательны еще и тем, что им удалось соединить российской уровень подогреваемой естественными ресурсами паранойи и агрессии с демократическими институтами.
Но опять же, нам следует быть весьма осторожными при попытке тут же прийти к неким заключениям. В важной книге Тэда Даннинга (Thad Dunning) под названием "Сырая демократия: богатство естественных ресурсов и политические режимы" (Crude Democracy: Natural Resource Wealth and Political Regimes, Cambridge, 352 pp., November 2008) показывается, что закону Фридмана почти наверняка не стоит доверять. Иногда естественные ресурсы вызывают развитие автократии, но также они могут подтолкнуть и к демократии. Как всегда в политике, значение имеют именно мотивы, особенно мотивы тех, кому есть что терять. Легко эксплуатируемый источник естественного богатства может помочь в развитии демократии, когда состоятельным элитам дороже устраивать государственный переворот, чем следовать демократическим институтам. Это особенно верно в случае сильного разрыва между богатыми и бедными, когда внезапный приток доходов может смягчить конфликт из-за распределения богатств, улучшив положение всех сразу. Иными словами, обеспеченность ресурсами иногда помогает смягчить остроту классового конфликта, так что богатые сохраняют желание поддерживать демократию. Возможно, это и есть случай Афин. Видимо, вероятность того, что серебро позволило афинянам правильно пользоваться своей демократией, по крайней мере ничуть не меньше той, что демократия позволила им правильно воспользоваться своим серебром.
Кажется, что преимущество демократий, сегодня, как и раньше, состоит в их способности к инновациям и к приспособлению к непривычным обстоятельствам. Когда Россия перекачивает свои нефтяные деньги в вооруженные силы, в глаза бросается тот факт, что институт, осуществляющий эти траты, остается неустойчивой, автократичной, неэффективной развалюхой, которая может побить маленькую Грузию, но при столкновении с кем-то близким по размеру, несомненно, попала бы впросак. Тогда как во флоте, построенном афинянами в 480 году, поражает то, что это было весьма значительное техническое достижение. У флота было изобретательное руководство, так что в итоге он позволил афинянам разбить неприятеля, превосходство которого казалось несомненным. Это наиболее сильная часть аргументации Обера: демократия связана с неустанным стремлением к инновациям, и именно этот дух новых возможностей наделил их конкурентным преимуществом.
Интересно то, что большая часть подтверждений этого тезиса извлекается Обером из гораздо более позднего периода афинской демократии, то есть IV века до н.э., когда героический период имперских приключений уже завершился крахом. Эта поздняя фаза демократии как нельзя лучше продемонстрировала то, что английские футбольные тренеры называют "способностью вернуться " (bouncebackability). То есть демократия в Афинах не просто наверстывала упущенное и возвращалась всякий раз, когда захватчики или разочарованные элиты пытались подавить ее. Дело еще и в том, что демократические институты проявили способность и напор в поиске практических решений технических проблем, которые могли разрушить государство. Подобно наиболее устойчивым футбольным командам, афинская демократия делала все возможное, чтобы не дать череде поражений превратиться в необратимую спираль, устремленную вниз. В результате она могла избегать вылета из премьер-лиги городов-государств в течение гораздо более длительного времени, чем можно было ожидать.
Один из примеров подобного инновативного подхода относится к 375 году до н.э. К этому времени Афины восстановили свою репутацию торгового центра и их валюта - серебряный обол - стала предпочтительным обменным средством многих торговцев со всего Эгейского моря. Проблема в том, что монеты были достаточно легко копировать, что вызвало кризис доверия, который понижал торговую активность в самих Афинах, поскольку купцы стали отказываться принимать платежи, опасаясь подделок. Собрание провело дебаты и пришло к решению, предполагающему введение сложного набора законов, которые были призваны разрешить кризис. Согласно новым правилам была установлена должность того, кто проверял серебряные монеты (на самом деле, таких людей было двое - один на агоре, а другой - в пирейском порту). Они должны были определить, были ли монеты, использованные в той или иной трансакции, "хорошими" подделками (то есть содержащими то же количество серебра, что и подлинные монеты) или грубыми подделками (из окрашенной бронзы или свинца). Если решали, что данные монеты являются подлинными афинскими оболами, продавцы обязывались законом принимать их. Если они были "хорошими" иностранными подделками, они возвращались покупателю, и, соответственно, могли оставаться в обращении; если же это были бронзовые или свинцовые подделки, они подлежали уничтожению. Цель состояла в том, чтобы восстановить доверие к серебряным монетам, обращающимся в Афинах, поддерживая трансакционные издержки на низком уровне (сохраняя обращение хороших подделок) и при этом отдавая несомненный приоритет официальным монетам государства (оболу). Новыми законами также устанавливался ряд процедур и наказаний, который должен был обеспечить работу системы, включая инструкции по выбору лиц, занятых проверкой монет, по тому, где они должны были заседать (буквально: "между столами ростовщиков"), а также по тому, чего ждать торговцам, которые откажутся признавать эти законы.
Три момента бросаются в глаза в этой истории о правилах. Во-первых, они представляются весьма сложными и точно рассчитанными, ведь они позволили получить сложный набор экономических результатов, не всегда легко совместимых друг с другом. Именно этот момент подчеркивается Обером: афинское собрание заняло позицию, которая не была ни чрезмерно либеральной, ни чрезмерно карательной, оказавшись, самое главное, продуктивной, поскольку она позволила сохранить репутацию Афин как лучшего места для торговли. Во-вторых, все эти правила весьма современны. В Афинах наблюдался кредитный кризис, и, как и теперь, главной проблемой было восстановление доверия в ценность активов, которое не должно было, однако, обернуться оттоком ликвидности с рынка. Торговцы в Афинах прекратили вести дела, поскольку они не верили в то, что они получали взамен. Поэтому следовало найти средство, которое вынудит их доверять тому, что они получали, не ограничивая при этом обмен наиболее ценными монетами. Ловкость, с которой афинянам удалось установить это равновесие, указывает на то, что им и в самом деле есть, чему нас поучить.
Третья примечательная черта законов о серебряных монетах заключается в том, что они в значительной мере зависели от грубых, жестоких и в высшей степени принудительных структур рабовладельческого общества. Занятые проверкой монет лица обязаны были быть рабами. Частично это связано с тем, что рабы могли стать экспертами в оценке монет, поскольку эта задача требовала повторения одной и той же процедуры в течение тысяч часов. Однако другое основание заключалось в том, что нужно было, чтобы их можно было пороть (закон предписывал 50 ударов плетью), если они не выполняли свою работу должным образом. Также закон побуждал торговцев выдавать тех из своих товарищей, которые не соглашались с решениями оценщиков-рабов, а мотивом было то, что половина товаров отходила именно обвинителю, сдавшему такого купца (другую половину забирало государство). Существовали даже законы, определявшие наказания (штрафы, потеря должности), которых могли ждать судьи, не соблюдавшие выполнение этих правил. То есть это была сложная и тонко настроенная система регуляции, поддерживаемая явной и несомненной угрозой. Должно быть, Алистер Дарлинг очень хотел бы иметь возможность посылать в банки рабов, дабы они оценивали там активы, записанные в гроссбухах, если бы он знал, что может наказать розгами тех, кто не предоставляет ему нужную информацию, пообещать долю резервов банка каждому, кто проинформирует его о том, что этот банк по-прежнему отказывает к кредитах, а также уволить любых служащих судебного ведомства, которые отказывают ему в поддержке. Но ничто из этого ему недоступно, поскольку мы живем в совсем иной демократии.
И все же вопрос остается: хотя это решение и требует рабовладения, как вообще афинянам удалось прийти к нему? Обер считает, что именно демократия научила их продумывать подобные проблемы, и что чем дольше сохранялась демократия, тем с большим успехом они справлялись с такими сложностями. Институты афинской демократии - включая экклесию, совет пятисот, меньшие суды, различные сменяемые должности, на которые назначали по жребию, армия и флот, а также множество институтов племенного и местного правления - были выстроены так, что оставались открытыми к новой информации, идеям, опыту, становясь все более сноровистыми в превращении всех этих элементов в знание. Обер подчеркивает значение строительства "мостов" между различными институтами, благодаря которому самые разные люди и известные им знания могли курсировать по пространству афинской публичной жизни, оставляя везде свои следы. Он описывает афинскую демократию, используя удачный современный жаргон, когда говорит о ней как "масштабируемой" (scalable), что означает, что уроки, извлеченные на локальном уровне, могли обобщаться посредством системы управления. Афинская демократия сводила людей друг с другом, не стирая различий между ними. А это, по Оберу, было величайшим достижением, представляющим собой наиболее явное назидание современному миру (действительно, Обер считает, что достижения афинской демократии служат тому, чтобы в значительной степени стереть различие между древним и современным). Постоянной проблемой институтов всех типов является то, что они должны обосновать лояльность, не подавляя различия и разнообразие. Вам нужны правила, чтобы поддержать институты, однако когда люди слишком довольны правилами или сжились с ними, вся система становится ригидной и неповоротливой. И в то же время, если индивиды чувствуют, что они абсолютно свободны в своих начинаниях и привязанностях, опасность в том, что ваш институт развалится. Афинская демократия не разваливалась почти два века, и это говорит о том, что она не была ни слишком ригидной, ни слишком гибкой, попав в счастливую середину.
И все же, как допускает и сам Обер, афинская демократия не была просто инструментом для производства новых типов знаний. Она также опиралась на знания старого типа, в особенности на то, что он называет "социальным знанием", то есть на то понимание работы системы, которое есть у индивидов еще до того, как они начинают действовать. Афиняне были способны к инновациям только потому, что они уже многое знали о том, что от них ожидалось. Они могли считывать сигналы, расшифровывать знаки во время крупных публичных собраний; прежде всего, они знали, как подыгрывать. "Необходимо, - пишет Обер, - наличие корпуса ответственных лиц, способных распознавать (через социальное знание), кто на самом деле является экспертом, как и способных решать (посредством голосования), каким именно значением наделить ту или иную экспертную область". Афиняне поддерживали подобную практику, планируя свои общественные здания так, чтобы они обеспечивали "взаимную видимость" - в них каждый мог держать в поле зрения любого другого человека и ловить моменты, когда кто-то в толпе начинал перетягивать людей на свою сторону. Если сесть в афинском суде, окажешься сидящим в круге, в котором можно было наблюдать за коллегами и ловить их подсказки. Только подумайте, как это отличается от современного суда, где все смотрят вперед, чтобы не пропустить свидетельства и показания, а не следить за ответами друг друга. Во многих современных парламентских зданиях (в Эдинбурге, Берлине, Канберре) внесены изменения, позволяющие представителям сидеть кругом, но приоритет тут отдается прозрачности, а не взаимной видимости. Эти конструкции из стекла и воздуха обоснованы тем принципом, что публика должна иметь возможность смотреть сквозь демократические институты, чтобы быть уверенной в том, что от нее ничего не скрывают. Афинская демократия была в гораздо большей степени делом поверхности, в котором каждый пытался читать другого, а не смотреть сквозь него или мимо него.
Вот почему так трудно представить себе, как афинская демократия работала бы в современных демократических государствах. У нас просто нет такого социального знания. Периодически появлявшиеся предложения реформировать некоторые демократические институты в афинском стиле - одно из них было изложено в недавно переизданном памфлете Demos, предлагавшем укомплектовывать палату лордов представительной выборкой населения, извлекаемой из списков избирателей, - могли бы в определенном смысле расширить единый резерв знаний, но в другом смысле они бы существенно его сузили, поскольку граждане-политики, затянутые в чрезвычайно рискованную сферу принятия решений, не знали бы, что делать, и их просто съели бы заживо профессионалы (1). Действительно, эксперименты с гражданскими судами в таких местах, как Британская Колумбия, показали, что при наличии времени, возможности полностью обдумать свои решения и проконсультироваться со специалистами обычные люди вполне способны справиться со сложными политическими вопросами и прийти к разумным решениям. Но в реальной политике, где времени не хватает, а вокруг тебя будут наматывать круги консультанты (представьте того же Питера Мендельсона, руководящего гражданским судом), любительский подход теряет свои преимущества. Оберу известно, как сложно было бы воспроизвести афинские условия в современном мире, но он все равно хотел бы попытаться. "Случай Афин наводит на ту мысль, что, чтобы измерить истинный потенциал групп обсуждения, в экспериментах должны быть смоделированы ключевые аспекты политической социализации в афинском стиле, включая практику участия в политической жизни, потенциал долгосрочной социальной интеракции, высокие ставки и опыт рассуждения на самых разных уровнях". Но как именно смоделировать все эти вещи? Какими могут быть эксперименты, в которых люди становятся политически социализированными? На самом деле, урок Афин заключается в том, что если вы хотите научиться тому, как заниматься политикой, вы должны жить ею. В наши дни лучший способ набраться опыта политического участия, вступить в долгосрочное социальное взаимодействие и играть, делая высокие ставки, - это стать профессиональным политиком.
Старая история Афинской демократии сводится к тому, что она не стала бы работать в современном мире, поскольку в современных государствах слишком много граждан, у которых слишком мало времени, чтобы заниматься политикой на афинский манер. И рассуждение Обера, несмотря на всю его привлекательность, на самом деле, не меняет картину. Афинская политика могла быть расширена, но только до каких-то пределов - то есть в рамках десятков тысяч, но не десятков миллионов граждан. Наша в политика в определенном смысле слишком велика - у нас слишком много избирателей, но в другом слишком мала - то, что имеет большое значение для политиков, например их карьеры, вряд ли важно для избирателей. Однако другие институты гораздо лучше подходят к афинской модели. Например, в Гугле сейчас чуть меньше работников, занятых на полный рабочий день (их около 20000), чем граждан в древних Афинах (около 30000). Опционы означают, что большинство людей в компании играют, делая достаточно высокие ставки, а награды действительно масштабируемы (когда хорошо идут дела у Ларри Пейджа и Сергея Брина, хорошо и людям, которые стоят гораздо ниже их на организационной лестнице, хотя они, конечно, не могут приблизиться к Пейджу и Брину по уровню своего благосостояния). Поэтому полная занятость в Гугле намного больше определяет стиль жизни, чем гражданство в определенном государстве: с гораздо большей вероятностью вы окажетесь институционально социализированными в качестве сотрудника Гугла, чем, скажем, британского подданного. Гуглу еще предстоит пройти длинный путь, чтобы сравниться с достижениями древних Афин; два века - это большой срок, и все это время надо будет продержаться на самом верху, так что поводов для имперского перенапряжения будет предостаточно. Но у Гугла также полно пространства для экспериментов с взаимной видимостью и сбором знаний. Замечательная, но слегка идеалистическая книга Обера, несомненно, найдет свое место на тех полках книжных магазинов, где стоит всякая политика, и именно туда ее автор и желал направить. Но главный урок, который можно из нее извлечь, видимо, больше подошел бы к разделу деловой литературы или менеджмента.
Примечания:
- The Athenian Option: Radical Reform for the House of Lords by Anthony Barnett and Peter Carty. Imprint Academic, 112 pp., August 2008.
тэги
читайте также